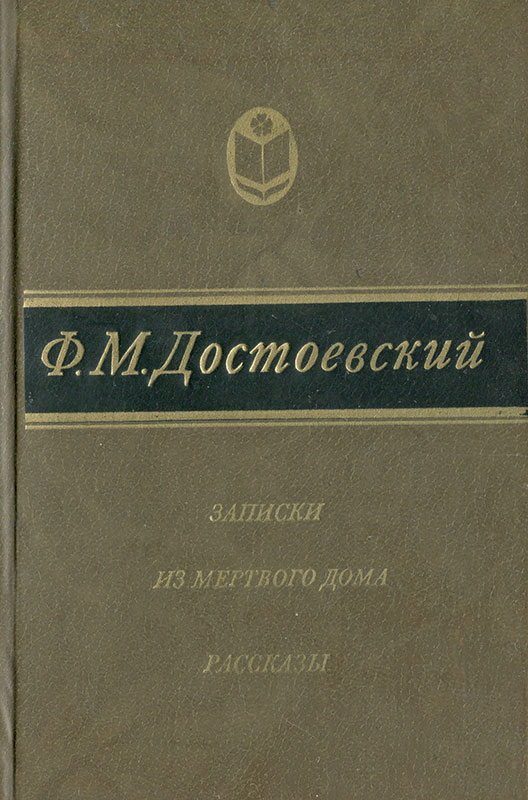 В 1850-54 годах Фёдор Михайлович отбывал срок на каторге в Омской крепости. Оказался он там будучи осуждённым царским правительством Николая I как участник революционного движения петрашевцев. Свои воспоминания, впечатления, мысли и выводы писатель выразил в «Записках из Мёртвого дома».
В 1850-54 годах Фёдор Михайлович отбывал срок на каторге в Омской крепости. Оказался он там будучи осуждённым царским правительством Николая I как участник революционного движения петрашевцев. Свои воспоминания, впечатления, мысли и выводы писатель выразил в «Записках из Мёртвого дома».
Повесть впервые печаталась в 1860-62 годах в журнале «Время». Из-за цензурных соображений хронику каторжной жизни Достоевский излагал как бы не от себя, а от лица вымышленного героя – Александра Петровича Горянчикова, дворянина, отправленного в острог за убийство жены.
«Записки…» стали одним из первых заметных произведений психологической прозы. Заключённые в остроге – это изначально абсолютно разные личности, в обычной жизни находящиеся на разных полюсах общества: здесь и представители знати, и здесь же люди с самого дна, здесь отпетые преступники и мерзавцы, и здесь же несчастные бедолаги однажды оступившиеся в жизни… И все они находятся под прессом системы.
Достоевский отстаивает свободу личности, право на собственное «я», как главные ценности для человека. Машина наказаний при этом является тупым инструментом результатом работы которого является не воспитание и исправление пороков осуждённых, а расчеловечивание, унижение и уничтожение личности. Что-то изменилось с тех пор?..
Памятная доска в яме, на недавно откопанном фундаменте одной из казарм Омского острога, где пребывал Ф. М. Достоевский.
(Фундамент «Мёртвого дома», Омск, 2023 г.)
А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утончённо, художественно. Ругательство было возведено было в их науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей – а это утончённее, ядовитее. Беспрерывные ссоры ещё более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, следственно он был праздный, следственно развращался: если и не был прежде развращён, то в каторге развращался.
Про арестантов, 32
Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд можно даже назвать его сумасшедшим; так и делают.
33
Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещённых наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твёрдо уверен, что знаменитая келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет её, пугает её и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния.
34
Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придётся оправдать самого преступника. Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком.
34
Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения имел своё мастерство и занятие.
36
Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжёлою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности её, сколько в том, что она – принуждённая, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумно. Целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать его работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы.
40
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший.
56
Везде в русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны.
57
Тяжело переносить первый день заточения, где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли… Но, помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, – мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и потому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу: вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, батька! Ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». – «Дурак! Луковица – ан копейка! Сто душ – сто луковиц, вот те и рубль!» (острожная легенда). А другой убил, защищая от сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери. Один убил по бродяжничеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их тёплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу. Правда, есть вариация в сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а вариаций в одном и том же роде преступлений – бесчисленное множество. Что характер, то вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу невозможно, что это своего рода неразрешимая задача – квадратура круга, положим так! Но если б даже это неравенство и не существовало, – посмотрите на другую разницу, на разницу в самых последних наказаниях… Вот человек, который в каторге чахнет, тает как свечка; и вот другой, который до поступления в каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развесёлая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьёт его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершённом им убийстве, во всю каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренёра с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он ещё и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он ещё не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только может быть в свете. Неужели наказание для этих двух одинаково чувствительно?
О несправедливости наказаний, несоответствии тяжести содеянного, 66-68
Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди – доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему все за понесённое им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников несчастными.
70,71
Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно: что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в своё общество, даже, может быть, ещё в более развитое. Он потерял, конечно, много – родину, семью, всё, но среда его остаётся та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом… Это – рыба, вытащенная из воды на песок… И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина… даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать.
81
К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты большие мечтатели.
95
Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует до тех пор, покамест они чего не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствия их желанию.
118
Эта нахальность самовозвеличивания, это преувеличенное мнение о своей безнаказанности рождает ненависть в самом покорном человеке и выводит его из последнего терпения.
О чрезмерном самомнении «начальства», 124
Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает своё место перед начальником; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то, следственно, и надо с ним обращаться по-человечески.
125
Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его, и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и преловко отшучивался.
– Эй, жид, приколочу!
– Ты меня один раз ударишь, а я тебя десять, – молодцевато отвечает Исай Фомич.
– Парх проклятый!
– Нехай буде парх.
– Жид пархатый!
– Нехай буде такочки. Хоть пархатый, да богатый; гроши ма.
– Христа продал.
– Нехай буде такочки.
– Славно, Исай Фомич, молодец! Не троньте его, он у нас один! – кричат с хохотом арестанты.
– Эй, жид, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь.
– Да я и так в Сибири.
– Еще дальше ушлют.
– А что там пан бог есть?
– Да есть-то есть.
– Ну нехай; был бы пан бог да гроши, так везде хорошо будет.
– Молодец, Исай Фомич, видно, что молодец! – кричат кругом…
Подкалывают еврея-арестанта, 129
Простолюдины мало моются горячей водой и мылом; они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой, – вот и вся баня.
Наблюдение, 133
Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее. Петушиной же замашки быть впереди во всех местах и во что бы то ни стало, стоит ли, нет ли того человек, – этого в народе нет. Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков – и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, – напротив: сами они еще должны у него поучиться.
162
Да и кстати сказать: неужели заковывают человека в ножные кандалы для того только, чтоб он не бежал или чтоб это помешало ему бежать? Совсем нет. Кандалы – одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная. Так по крайней мере предполагается. Бежать же они никогда никому помешать не могут. Самый неумелый, самый неловкий арестант сумеет их без большого труда очень скоро подпилить или сбить заклепку камнем.
184
В самом деле, простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнию, будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами (которыми отнюдь не надо пренебрегать), чем пойдет к доктору или лежать в госпитале. Но, кроме того, что тут есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, именно: всеобщее недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать административного, форменного; кроме того, народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами, россказнями, нередко нелепыми, но иногда имеющими свое основание. Но, главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во все продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья.
187
…я хотел только сказать, что простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям.
188
Есть люди, как тигры жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен.
202
–…Любил медок, люби и холодок, терпи, значит.
211
– …«У тебя, говорит, жена для модели, чтобы люди глядели».
222
«Поселенец что младенец: на что взглянет, то и тянет», – говорят в Сибири про поселенцев.
226
Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется больше по необходимости, чем по призванию.
226
– Да; мальчик не мот, а деньгам перевод.
234
– Богат Ерошка, есть собака и кошка.
258
…Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но все обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей.
Когда Майор, наводивший ужас на арестантов, вышел в отставку, 280
– Дело не башмак, с ноги не сбросишь.
288

