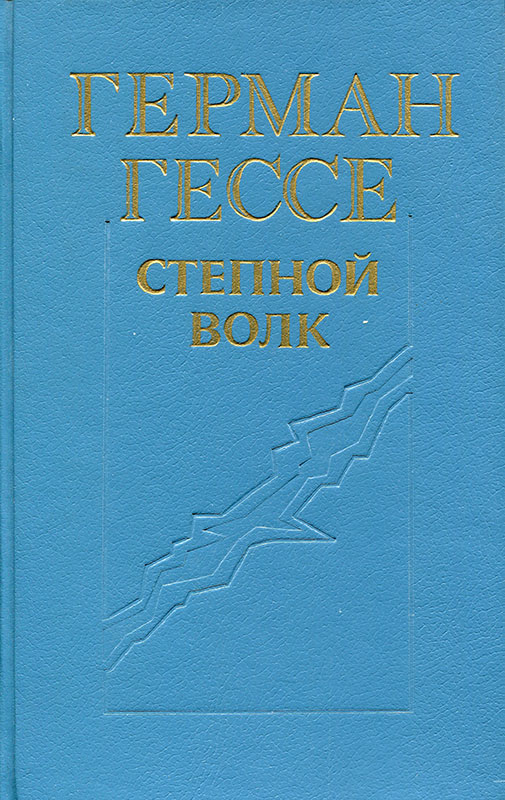 Главный герой книги, Гарри Галлер находится в сложных отношениях с окружающей его действительностью. Мир вокруг себя он находит крайне примитивным и убогим, а спасение для себя видит в том, что в любой момент может совершить самоубийство и прекратить все свои страдания. В основе этого конфликта с окружением, как объясняет себе сам Галлер, лежит его двойственная сущность – в нём живут две личности – человек и волк. И если одна сущность стремится к комфорту, то вторая – этого не приемлет.
Главный герой книги, Гарри Галлер находится в сложных отношениях с окружающей его действительностью. Мир вокруг себя он находит крайне примитивным и убогим, а спасение для себя видит в том, что в любой момент может совершить самоубийство и прекратить все свои страдания. В основе этого конфликта с окружением, как объясняет себе сам Галлер, лежит его двойственная сущность – в нём живут две личности – человек и волк. И если одна сущность стремится к комфорту, то вторая – этого не приемлет.
И как-то переживая очередной внутренний кризис, Галлер случайно получает в руки «Трактат о Степном волке», где описывается он сам, люди подобные ему, и раскрывается заблуждение о двойственности «человек-волк» в качестве описания внутреннего мира таких людей: всё на самом деле сложнее – внутри каждого много всего.
Далее Галлер проходит через мистические переживания, в которых реальность перемешивается с воображением и, где он рассыпается на разные действующие лица, выражающие ту или иную часть его сущности. Так, например, Гермина – это его очень разумное женское начало; Пабло – его мужской образ, решительный и обаятельный мачо; Мария – некая идеальная женщина для отношений; здесь же среди других появляется Моцарт – настоящий – но такой, каким его представляет Галлер…
Вся эта история была призвана вернуть к нормальной жизни Галлера, чтобы он не зацикливался на Степном волке внутри себя. По итогу сам он воспринял для себя это как некий опыт, который счёл неудачным, но оставался готовым пройти это заново.
Герман Гессе написал и опубликовал роман в 1927 году – сложный исторический период для Европы и, тем более, для Германии. Проблемы и противоречия поколения, зависшего между двумя войнами, нашли отражение в расколе личности главного героя «Степного волка».
Роман состоит из нескольких частей: записки Гарри Галлера, предисловие Издателя и Трактат о Степном волке, приведённый полностью, по сути, книга в книге.
Перевод с немецкого С. Апта
Предисловие Издателя
Я понял, что Галлер – гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше, выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию. Одновременно я понял, что почва его пессимизма – не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо, при всей беспощадности его суждений о заведённых порядках или о людях, он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь…
Издатель о Галлере, 96
«Надо бы гордиться болью, всякая боль есть память о нашем высоком назначении».
«Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать».
Галлер зачитывает Издателю цитаты из Новалиса, 101
…Душевная болезнь Галлера – не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одарённые.
Издатель о Галлере, 105
– …У человека средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским! У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга, в нём задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищённость и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, – то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.
Галлер в разговоре с Издателем, 105, 106
Записки Гарри Галлера (1)
Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует!
Галлер о себе, 111
…Если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым люди, значит, не прав я, значит, я – сумасшедший, значит, я и есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрёл в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха.
112
Трактат о Степном волке
Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умён. Но не научился одному: быть довольным собой и своей жизнью.
122
Людей типа Гарри на свете довольно много, к этому типу принадлежат, в частности многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри. И эти люди, чья жизнь весьма беспокойна, ощущает порой, в свои редкие мгновения счастья, такую силу, такую невыразимую красоту, пена мгновенного счастья вздымается порой настолько высоко и ослепительно над морем страданья, что лучи от этой короткой вспышки счастья доходят и до других и их околдовывают.
125
Властолюбец погибает от власти, сребролюбец – от денег, раб – от рабства, искатель наслаждений – от наслаждений. Так и Степной волк погибал от своей независимости. Он достиг своей цели, он становился всё независимее, никто ему ничего не мог приказать, ни к кому он не должен был приспосабливаться, как ему вести себя, определял только он сам. Ведь любой другой человек непременно достигает того, чего велит ему искать настоящий порыв его естества. Но среди достигнутой свободы Гарри вдруг ощутил, что его свобода – это смерть, что он в одиночестве, что мир каким-то зловещим образом оставил его в покое, что ему, Гарри больше дела нет до людей и даже до самого себя, что он медленно задыхается во всё более разреженном воздухе одиночества и изоляции.
127, 128
Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой. Среди этих последних много даже таких, которые становятся самоубийцами лишь, так сказать, случайно, ибо самоубийство не обязательно вытекает из их внутренних задатков. Среди людей, не являющихся ярко выраженными личностями, людей неяркой судьбы, среди дюжинных и стадных людей многие хоть и кончают с собой, но по своему характеру и складу отнюдь не принадлежат е типу самоубийц, и опять-таки очень многие, пожалуй, большинство из тех, кто по сути своей относится к самоубийцам, на самом деле никогда не накладывают на себя на себя руки. «Самоубийца» – а Гарри был им – не обязательно должен жить в особенно тесном общенье со смертью, так можно жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на своё «я» – не важно, по праву или не по праву, – как на какое-то опасное, ненадёжное и незащищённое порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищённым, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена те, что самоубийство для них – наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения, заметного уже ранней юности и сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди «самоубийц» встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем «самоубийцами» и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве.
128, 129
… «Самоубийцы» предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко прониклись сознанием его греховности. Но для нас они всё же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни, и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.
129, 130
Если всякая сила может (а иногда и должна) обернуться слабостью, то типичный самоубийца может, наоборот, превратить свою кажущуюся слабость в опору и силу, да и делает это куда как часто. Пример тому и Гарри, Степной волк. Как и для тысяч ему подобных, мысль, что он волен умереть в любую минуту, была для него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нём желание избавиться от них с помощью смерти. Но постепенно он выработал из этой своей склонности философию, прямо-таки полезную для жизни. Интимное знакомство с мыслью, что этот запасной выход всегда открыт, давало ему силы, наделяло его любопытством к болям и невзгодам, и когда ему приходилось весьма туго, он порой думал с жестокой радостью, с каким-то злорадством: «Любопытно поглядеть, что способен человек вынести! Ведь когда терпенье дойдёт до предела, мне стоит только отворить дверь, и меня поминай как звали». Есть очень много самоубийц, которым эта мысль придаёт необычайную силу.
130
Каким-то уголком души каждый знает, что самоубийство хоть и выход, но всё-таки немного жалкий и незаконный запасной выход, что, в сущности, красивей и благородней быть сражённым самой жизнью, чем своей же рукой.
130
«Мещанство» же, всегда наличное людское состояние, есть не что иное, как попытка найти равновесие, как стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами человеческого поведения. Если взять для примера какие-нибудь из этих полюсов, скажем, противоположность между святым и развратником, то наше уподобление сразу станет понятно.
133
Жить полной жизнью можно лишь ценой своего «я». А мещанин ничего не ставит выше своего «я» (очень, правда, недоразвитого). Ценой полноты, стало быть, он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости богом спокойную совесть, вместо наслаждения удовольствие, вместо свободы удобство, вместо смертельного зноя приятную температуру. Поэтому мещанин по сути своей – существо со слабым импульсом к жизни, трусливое, боящееся хоть сколько-нибудь поступиться своим «я», легко управляемое. Потому-то он и поставил на место власти большинство, на место силы закон, на место ответственности процедуру голосования.
134
И всё-таки мещанство живёт, оно могуче, оно процветает. Почему?
Ответ: благодаря Степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие расплывчатости и растяжимости своих идеалов, включает в себя.
134
То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договорённость. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала, она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую толику духа. «Человек» этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую праматерь-природу, а с другой стороны, докучливого праотца – дух и пожить между ними, в индифферентной серёдке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет «личностью», но одновременно отдаёт личность на произвол молоха – «государства» и всегда сталкивает лбами личность и государство. Поэтому мещанин сжигает сегодня как еретика, вешает как преступника того, кому завтра он будет ставить памятники.
143
Хотя очеловечивание как цель понятнее ему [Степному волку], чем мещанам, он закрывает глаза и словно бы не знает, что отчаянно держаться за своё «я», отчаянно цепляться за жизнь – это значит идти вернейшим путём к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради перемен ведёт к бессмертию.
144
Человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность. Он живёт в нём только из трусости, и когда его угнетают размеры этого мира, когда тесная мещанская комната делается ему слишком тесна, он сваливает всё на «волка» и не видит, что волк – лучшая порой его часть. Он называет всё дикое в себе волком и находит это злым, опасным, с мещанской точки зрения – страшным, и хотя он считает себя художником, хотя убеждён в тонкости своих чувств, ему невдомёк, что кроме волка, за волком, в нём живёт и многое другое, и не всё то волк, что волком названо, и живут там ещё и лиса, и дракон, и тигр, и обезьяна, и райская птичка. Ему невдомёк, что весь этот мир, весь этот райский сад прелестных и страшных, больших и малых, сильных и слабых созданий так же подавлен и взят в плен сказкой о волке, как подавлен в нём, в Гарри, и взят в плен мещанином, ложным человеком, подлинный человек.
146, 147
Записки Гарри Галлера (2)
При каждом таком потрясении моей жизни я в итоге что-то приобретал, этого нельзя отрицать, становился свободнее, духовнее, глубже, но и делался более одинок, более непонятен, более холоден. В мещанском плане моя жизнь была постоянным, от потрясения к потрясению, упадком, всё большим удалением от нормального, дозволенного, здорового.
149
Пусть самоубийство – это глупость, трусость и подлость, пусть это бесславный, позорный выход – любой, даже самый постыдный выход из этой мельницы страданий куда как хорошо, тут уж нечего играть в благородство и героизм, тут я стою перед простым выбором между маленькой, короткой болью и немыслимо жестоким, бесконечным страданьем.
150
– Я думаю, что борьба против смерти, безусловная и упрямая воля к жизни есть та первопричина, которая побуждала действовать и жить всех выдающихся людей.
Гёте во сне Гарри Галлера, 172
…Кто умел до такой степени жить мгновеньем, кто до такой степени жил настоящим, так приветливо-бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновенье, тому нечего было бояться жизни.
185
– Я не раз высказывал мнение, что, вместо того чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом «кто виноват», каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, на сколько он сам, из-за своих ошибок, упущений, дурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны.
Гарри в разговоре с Герминой, 188
– Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живём для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живём, чтобы бояться её, а потом снова любить, и как раз благодаря её жизнь так чудесно пылает в иные часы.
Гермина, 190
– Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным, тут уж ничего не поделаешь.
Гермина, 193
– Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с её глупостью и грубостью.
Гермина, 196
Он был противником власти и эксплуатации, однако в банке у него лежало множество акций промышленных предприятий и проценты с этих акций он без зазрения совести проедал. И так было во всём. Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был, в сущности, буржуа…
Гарри о себе, 199
От женщин, которых я прежде любил, я всегда требовал ума и образованности, не вполне отдавая себе отчёт в том, что даже очень умная и относительно очень образованная женщина никогда не отвечала запросам моего разума, а всегда противостояла им; я приходил к женщинам со своими проблемами и мыслями, и мне казалось совершенно невозможным любить дольше какого-нибудь часа девушку, которая не прочитала почти ни одной книжки, почти не знает, что такое чтение, и не смогла бы отличить Чайковского от Бетховена.
210
– У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача, ты был готов к подвигам, страданьям и жертвам – а потом постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого, что жизнь – это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская комната, где вполне довольствуются едой и питьём, кофе и вязаньем чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтенье к великим поэтам или почтенье к святым, тот дурак и донкихот.
Гермина, 216
– Всегда так было и всегда так будет, что время и мир, деньги и власть принадлежат мелким и плоским, а другим, действительно людям, ничего не принадлежит. Ничего, кроме смерти.
Гермина, 218
– В вечности нет потомства, а есть только современники.
Гермина, 218
– Нехорошо, когда человечество перенапрягает разум и пытается с помощью разума привести в порядок вещи, которые разуму ещё совсем недоступны. Тогда возникают идеалы… они чрезвычайно разумны. И все они страшно насилуют и обирают жизнь, потому что очень уж наивно упрощают её. Образ человека, некогда высокий идеал, грозит превратиться в стереотип. Мы сумасшедшие, может быть, снова облагородим его.
Гарри Густаву (школьному товарищу), 247
