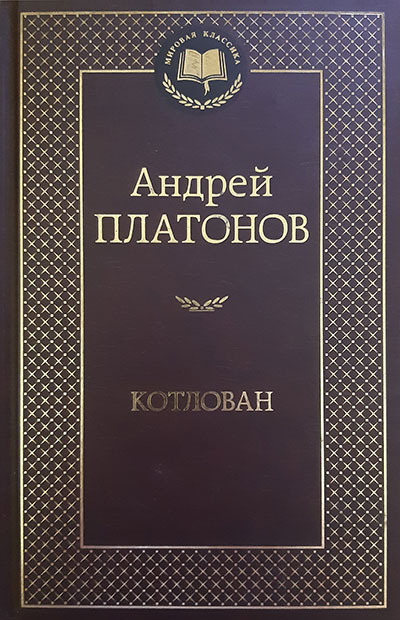«Чевенгур» написан во второй половине 1920-х годов, но полностью был опубликован только в 1988 году. Для советской литературной политики отображённое в романе построение коммунизма было слишком неоднозначным.
Повествование – это характерное для Андрея Платонова перемещение героев книги в пространстве и во времени в поисках истинного и безоговорочного счастья для себя и для всех людей. Книга насыщена человеческими портретами и действием, переходящим от одного персонажа к другому. Город Чевенгур появляется только в середине книги.
Герои – все в своей массе большевики – не только строят коммунизм, но в значительной степени пытаются понять, описать и объяснить себе и другим, что это такое – коммунизм. Чевенгур – представляется неким образцом построения общества, создаваемого на совсем наивных принципах, которые не всегда удовлетворяют героев книги. Концепция в общем проста и такова – буржуи и другие эксплуататоры изгоняются из общества; труд отменяется, поскольку его результатом являются материальные блага, а они в свою очередь приводят к расслоению общества; пролетариат же живет духом товарищества и питается тем, чем солнце и земля одарят. В общем, оптимальные условия созданы – коммунизм сам по себе наступит. Но в итоге Чевенгур был разорён казаками-кадетами, а чевенгурцы, несмотря на героизм, почти все пали в бою.
Текст романа написан насыщенным и самобытным авторским языком, что делает книгу крайне увлекательной, но и тяжелой для чтения. Платонов не только подаёт мысль афористично, но и создаёт для неё своеобразный и колоритный контекст. В том числе и по этой причине, приведённые ниже цитаты могут показаться слишком объёмными. Но тем не менее приведённые выдержки из текста помимо прочего помогут ознакомиться с романом, если нет времени читать его полностью, или просто он целиком трудно заходит.
Цитаты и выдержки из текста
Появляется человек – с тем зорким и до грусти изможденным лицом, который всё может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно.
Про Захара Павловича, 7
…Человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса – его не слышишь.
Про Захара Павловича, 8
Ушли почти одни взрослые – дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.
Была одна старуха – Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:
– Отмучался, родимый. Слава тебе, Господи!
Игнатьевна стояла тут же:
– Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает…
8
Бобыль же всю жизнь ничего не делал – теперь тем более; до пятидесяти лет он только смотрел кругом – как и что – и ожидал: что выйдет, в конце концов от общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира…
9
Родившись, он удивился и так прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице.
Про Бобыля, 9
Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.
Про Бобыля, 10
– Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаюсь разными изделиями…
Захар Павлович, 10
– Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет – она все уже знает.
Рыбак, 12
Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иванович попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.
12
…Умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума.
Про Рыбака, 12
Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству.
Когда его облили мочой, 18
Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук приливала к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх.
19
Он считал, что людей много, машин мало; люди – живые и сами за себя постоят, а машина – нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать – вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!
Наставник-машинист, 22
– Отец машины – рычаг, а мать наклонная плоскость…
Наставник, 23
За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Её мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается.
24
Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни – они мягкими маленькими руками заставляли пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться.
24, 25
Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем всё терпеливей и безотчётней он относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приёмышей, а если бы и приёмыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда – туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногам отрадно.
25
Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом – ливни, в ветер – песок и пыль, зимой их тяжело и душно нахлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича – труднее, чем самому родиться и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьём шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, – от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.
33
Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя, и поэтому боялся их.
Александр, сын рыбака, после смерти которого пришёл в семью П. А. Дванова, 34
Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее… Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева.
35
…Кондаев вперёд и навеки ненавидел её [баба или девушка] отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки.
36
– Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остаётся: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну по пище, жилищу они кое-как хлопочут, – ну а где у них инструментальные изделия? Где угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.
– А у человека что? – не понимал Захар Павлович.
– А у человека есть машины! Понял? Человек – начало для всякого механизма, а птицв сами себе конец…
Разговор с Наставником, 43
Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта… Он долго ходил по депо… ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович ещё не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастеровым одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда.
44
Ради сохранения равносильности в природе беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай – мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, – но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась: ради точности ходя всеобщей жизни.
45
Захар Павлович знал вперёд, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади – удлиняться мёртвая растоптанная дорога. Но он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось – глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в неё.
Видя своё лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а всё тот же».
45, 46
Он увидел, что время – это движение горя и такой же ощутительный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.
48
Машинист-наставник… верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчётной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света, даже хуже конца света – после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.
52
Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что всё в жизни происходит взаправду.
Про Сашу Дванова, 52
В следующие годы Захар Павлович всё более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завёл себе невесёлую подругу – жену Дарью Степановну. Ему легче было никогда полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастием Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушёл бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать: во-первых, сколько ни работал он, всё равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых, заволакивался какой-то равнодушной грёзой – наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою смерть.
54
– Я всё живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война… А я хожу и думаю, что война – это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не может…
Захар Павлович, 57
Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху – царь и его служащие – едва ли дураки. Значит, война –несерьёзное, нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?
57
Он снова видел, что как ни зол, как ни умён человек, а всё равно грустен и жалок и умирает от слабости сил.
Захар Павлович, 58
Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгами – если б там было что серьёзное, давно бы люди обнялись друг с другом.
60
Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место – та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир.
Про Сашу Дванова, 62
Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, лёгкое и огромное – горы живого воздуха, который нужно превратить в своё дыхание и сердцебиение.
62
Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.
– Революция легче, чем война, – объяснял он Саше. На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так…
Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он ради безошибочности отверг революцию.
Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят – добра не будет.
64
– Программа, устав, резолюция, анкета, – сказал он. – Пишите и давайте двух поручителей на каждого.
Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.
Захар Павлович и Саша пришли записываться в какую-то партию, 65
Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, чётко справедливо, без всякого доверия – наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.
65, 66
Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил всё – разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довёл себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принёс никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться.
Про Захара Павловича,68
– Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда всё могло вместиться.
Захар Павлович Саше, уходящему в большевики, 68
– Главное не надо этим делом нарочно заниматься – это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется… У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит…
Захар Павлович Саше про любовь, 69
Учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые.
70
Матросы задержали поезд, чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп, а после того эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались русские матросы, затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных вёдер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть! Мы очень её любим!» Потом китайцы сытыми легли спать.
83
Перед Пасхой Захар Павлович сделал приёмному сыну гроб – прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу – если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним.
84
– Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся, ведь правда?
Соня Александру про учёбу на курсах, 85
Во многих домах начался холод, а дети спасались от него тем, что грелись у тел тифозных матерей.
86
…В кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастии стараются двигаться. Русские странники и богомольцы почему и брели постоянно, что они рассеивали на своём ходу тяжесть горюющей души народа.
Предгубисполкома Шумилин, 87, 88
– Он не выдающийся член партии, – сказал конторщик. – У нас выдаваться не на чем было. Вот будут большие дела, и люди на них проявятся, товарищ секретарь.
– Ладно, –ответил секретарь. – Пусть ребята дело выдумывают и растут на нём.
О Дванове, 88
– А горе человека идёт по ходу солнца: вечером оно садится в него, а утром выходит оттуда.
Пешеход Дванову, 92
Оказывается этот человек считал себя богом и всё знал. По своему убеждению он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость – надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрёт, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали.
Крестьянин-бог, 93
– Здравствуй, Никанорыч, – тебе б пора Лениным стать, будя богом-то.
Нестарый мужик богу, 94
– В деревне везде скучно. Оттого и народ лишний плодится, что скучно. Ништ, стал бы каждый женщину мучить, ежели б другое занятие было?
Поганкин, семейный крестьянин, у которого останавливался Дванов, 96
Лишь слова обращают текущее чувство в мысль, поэтому размышляющий человек беседует. Но беседовать самому с собой – это искусство, беседовать с другими людьми – забава.
98, 99
Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя страхует свои тщетные надежды, а вождь извлекает из массы необходимое.
112
Сторож и Копенкин вышли во двор.
– А ты слышишь, – примечал сторож, – трава позванивает, а ветра нету.
– Нету, – прислушивался Копенкин.
– Это, проходящие сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять какой-то гарью понесло.
– Не чую, – нюхал Копенкин.
– У тебя нос заложило. Это воздух от беспроволочных знаков подгорает.
– Махай палкой! – давал мгновенный приказ Копенкин. – Путай ихний шум – пускай они ничего не разберут.
Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привыкшую руку не сводило в суставе плеча.
– Достаточно, – отменял Копенкин. – Теперь у них смутно получится.
126, 127
Хромого звали Фёдором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя – в Фёдора Достоевского и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища – удовлетворяют ли они их.
130
Он говорил сыну, что решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах.
Отец-лесничий, 139
Арсаков писал, что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершено ни к чему – он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддаётся покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет её, и она теряет то, что имела раньше.
«Люди, – учил Арсаков, – очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание – это самообучение из чуждых происшествий. Пускай же как можно длительнее люди учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него юных разумом мужей. Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия».
Из сочинения Николая Арсакова «Второстепенные люди», изданного в 1868 году, 140
Когда будет всё сложно, тесно и непонятно, – объяснял Копенкин, – тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть.
145
Он в душе любил неведение больше культуры: невежество – чистое поле, где ещё может вырасти растение всякого знания, но культура – уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, как и остался диким полем – не нивой, а порожним плодородным местом.
149
– Грамотный умом колдует, а неграмотный на него рукой работает.
Копенкин, 151
Он видел в жизни, что глупые и несчастные добрее умных и более способны изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашинцев верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее учёных буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их отличная судьба.
161
Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращённые в поток облегчающей мысли.
Дванов, 164
…Эти топтавшиеся были опаснее бегущих: они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться храбрым.
168
Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение. В революции тоже действуют эти страсти – не одной литой верой движутся люди, но также и дребезжащим сомнением.
171
– Десятая часть народа – либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски – за кем хошь пойдут. Был бы царь – и для него нашлась бы ячейка у нас... И в партии у вас такие же негодящие люди…
Кузнец Сотых, 171
– …Получается, что всегда чудаки над нами командовали, а сам народ никогда власть не принимал: у него, друг, посурьёзней дела были – дураков задаром кормил…
Кузнец Сотых, 172
В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала.
174
– …Чужая копейка вору, дороже своего рубля.
Рябой мужик Фёдор, 177
Плотников имел наружность без всяких отличий: чтоб его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз у него был редкий – карий: цвет воровства и потайных умыслов.
Описание бандита, 182
Советская власть – это царство множества природных невзрачных людей.
Как говорил Дванов Копенкину, 183
Люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звёзды же не всех прельщали – жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звёзды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь.
187
– Какая же свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит лёгкость и горе… Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили?
Слесарь Гопнер, 191
Партийные люди не походили друг на друга – в каждом лице было что-то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами. Из тысячи можно отличить такое лицо – откровенное, омрачённое постоянным напряжением и немного недоверчивое. Белые в своё время безошибочно угадывали таких особенных самодельных людей и уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением.
192, 193
…В речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный.
194
– Что к сроку не поспеет, то и посеяно зря… Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают… Попам тоже до рая добраться сатана мешал…
Захар Павлович Александру, 200
– Чевенгур не собирает имущества, а уничтожает его. Там живёт общий и отличный человек, и, заметь себе, без всякого комода в горнице – вполне обаятельно друг от друга.
Чепурный, чевенгурец, 212
– Скот мы тоже скоро распустим по природе… он тоже почти человек: просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей человеком тоже быть охота!
…
– У нас супруг нету: одни сподвижницы остались.
Чепурный, 214
Чепурный, когда он пришёл… властвовать над городом и уездом, думал, что Чевенгур существует на средства бандитизма, потому что никто ничего явно не делал, но всякий ел хлеб и пил чай.
219
– А что? – спросил Копенкин. – У вас здесь обязательно читают Карла Маркса?
Чепурный прекратил беспокойство Копенкина:
– Да это я человека попугал. Я и сам его сроду не читал. Так, слышал кое-что на митингах – вот и агитирую. Да и не нужно читать: это знаешь, раньше люди читали да писали, а жить – ни черта не жили, всё для других людей пути искали.
Когда Чепурный упрекнул Алексея Алексеевича в незнании Маркса, 223
Копенкин уже спрашивал Чепурного – что же делать в Чевенгуре? И тот ответил: ничего, у нас нет нужды и занятий – будешь себе внутренне жить! У нас в Чевенгуре хорошо – мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда!
224
Охваченный грустью, подозрением и тревожным гневом, Копенкин решил сейчас же, на сыром месте, проверить революцию в Чевенгуре. «Не тут ли находится резерв бандитизма? – ревниво подумал Копенкин. – Я им сейчас коммунизм втугачку покажу, окопавшимся гадам!»
…
«Они думают, коммунизм – это ум и польза, а тела в нём нету, просто себе пустяк и завоевание!»
…
Иногда проводник оборачивался и кричал попрёки, что в Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несёт солнце.
«Может, здесь живут одни отпускники из команды выздоравливающих? – молча сомневался Копенкин. – либо в царскую войну здесь были лазареты!..»
…
– У нас, товарищ, тут покой человеку: спешили одни буржуи, им жрать и угнетать надо было. А мы кушаем да дружим…
226
Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника: чёрные непрозрачные глаза, на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и постыдный нос, – у честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и более родственные.
228
«Работает тут одно летнее солнце, а люди лишь только нелюбовно дружат…»
Копенкин пишет в письме Дванову про Чевенгур, 229
…В Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были не обязательными, – по наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз и навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение – за счёт нарочной людской работы – идёт в костёр классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. Однако каждую субботу люди в Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную систему жизни в Чевенгуре.
233
– Так это не труд, это субботники!.. А в субботниках никакого производства имущества нету, – разве я допущу? – просто себе идёт добровольная порча мелкобуржуазного наследства. Какое же тебе тут угнетение, скажи пожалуйста!
Прокофий Копенкину объясняет про субботний труд в Чевенгуре, 234
От передвижки домов улицы в Чевенгуре исчезли – все постройки стояли не на месте, а на ходу; Пролетарская Сила [конь Копенкина], привыкшая к прямым плавным дорогам, волновалась и потела от частых поворотов.
237
За ту же молодость, украшенную равнодушием к девушкам, он некогда с уважением полюбил Александра Дванова, своего спутника по ходу революции.
Про Копенкина, 237
– Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре… Как бы не пришлось горя организовывать: коммунизм должен быть едок, малость отравы – это для вкуса хорошо…
– Пожалуй, верно. Надо нам теперь нарочно горе организовать. Давай с завтрашнего дня займёмся, товарищ Копенкин!
Копенкин и Чепурный, 238
– На бумаге надо одни песни на память писать.
Копенкин, 240
Редкие пришлые дети, которые иногда виднелись на прогалинах, были толстыми от воздуха, свободы и отсутствия ежедневного воспитания. Взрослые же люди жили в Чевенгуре неизвестно как: Копенкин не мог не заметить в них новых чувств: издалека они казались ему отпускниками из имериализма, но что у них внутри и что между собой – тому нет фактов; хорошее же настроение Копенкин считал лишь тёплым испарением крови в теле человека, не означающем коммунизма.
244
Больше всего Пиюся пугался канцелярий и написанных бумаг – при виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно ослабевал всем телом, чувствовал могущество чёрной магии мысли и письменности.
245
Чепурный прочитал, что Советская власть предоставляет буржуазии всё бесконечное небо, оборудованное звёздами и светилами на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу – в обмен на небо – всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства.
248
…С пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули – любили одно имущество.
251
Разве бабы понимают товарищество: они весь коммунизм деревянными пилами на мелкобуржуазные части распилят!
260
Гопнер работает без отказа уже двадцать пять лет, однако это не ведёт к личной пользе жизни – продолжается одно и то же, только зря портится время. Ни питание, ни одежда, ни душевное счастье – ничто не размножается, значит – людям теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм.
263
Чепурный взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густонапечатанные страницы: писал-писал человек, сожалел Чепурный, а мы всё сделали, а потом прочитали, – лучше бы и не писал!
Когда Чепурный понял, что в Чевенгуре наступает коммунизм, 265
Отвыкшие от жён и сестёр, т чистоты и сытного питания чевенгурские большевики жили самодельно – умывались вместо мыла с песком, утирались рукавами и лопухами, сами щупали кур и разыскивали яйца по закуткам, а основной суп заваривали с утра в железной кадушке неизвестного назначения, и всякий, кто проходил мимо костра, в котором грелась кадушка, совал туда разной близкорастущей травки – крапивы, укропу, лебеды и прочей съедобной зелени; туда же бросались несколько кур и телячий зад, если вовремя попадался телок, – и суп варился до поздней ночи, пока большевики не отделаются от революции для принятия пищи и пока в супную посуду не нападают жучки, бабочки и комарики. Тогда большевики ели – однажды в сутки – и чутко отдыхали.
280
– Проша, – сказал он [пожилой большевик Жеев], – не забудь и женчин отыскать, хоть бы нищенок. Они брат, для нежности нам надобны, а то видишь – я тебя поцеловал.
– Это пока отставить, – определил Чепурный. – В женщине ты уважаешь не товарища, а окружающую стихию… Веди, Прош, не по желанию, а по социальному признаку. Если баба будет товарищем – зови её, пожалуйста, а если обратно, то гони прочь в степь!
284
…Всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от неё, но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое; для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не состовляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нём и горы, и звёзды, и прочие человеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда, – тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетённой массы, а стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков.
284
«Товарищи бедные. Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего – друг друга. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог».
Символ Чевенгура, написанный Жеевым, 287, 288
– А что такое коммунизм, товарищ Чепурный? – спросил Жеев. – Кирей говорил мне – коммунизм был на одном острове в море, а Кеша – что будто коммунизм умные люди выдумали…
– Когда пролетариат живёт себе один, то коммунизм у него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи пожалуйста, – когда надо чувствовать и обнаруживать на месте! Коммунизм же обоюдное чувство масс; вот рокофий приведёт бедных – и коммунизм у нас получится, – тогда его сразу заметишь…
– А определённо неизвестно? – допытывался своего Жеев.
– Чего я тебе, масса, что ли? – обиделся Чепурный. – Ленин и то знать про коммунизм не должен, потому что это дело сразу всего пролетариата, а не в одиночку… Умней пролетариата быть не привыкнешь…
299, 300
Чепурный всегда с трогательностью чувствовал пролетариат и знал, что он есть на свете в виде неутомимой дружной силы, помогающей солнце кормить кадры буржуазии, потому что солнца хватает только для сытости, но не для жадности…
305, 306
Чепурный ожидал в Чевенгур сплочённых героев будущего, а увидел людей, идущих не поступью, а своим шагом, увидел нигде не встречающихся ему товарищей – людей без выдающейся классовой наружности и без революционного достоинства, – это были какие-то безымянные прочие, живущие без всякого значения, без гордости и отдельно от приближающегося всемирного торжества; даже возраст прочих был неуловим – одно было видно, что они – бедные, имеющие лишь непроизвольно выросшее тело и чужие всем; оттого прочие шли тесным отрядом и глядели больше друг на друга, чем на Чевенгур и его партийный авангард.
306
…Они жили без всякого излишка, потому что в природе и во времени не было причин ни для их рождения, ни для их счастья – наоборот, мать каждого из них первая заплакала, нечаянно оплодотворённая прохожим и потерянным отцом; после рождения они оказались в мире прочими и ошибочными – для них ничего не было приготовлено, меньше чем для былинки, имеющей свой корешок, своё место и своё даровое питание в общей почве.
Прочие же заранее были рождены без дара: ума и щедрости чувств в них не могло быть, потому что родители зачали их не избытком тела, а своею ночной тоской и слабостью грустных сил, – это было взаимное забвение двоих спрятавшихся, тайно живущих на свете людей, – если бы они жили слишком явно и счастливо, их бы уничтожили действительные люди, которые числятся в государственном населении и ночуют на своих дворах. Ума в прочих не должно существовать – ум и оживлённое чувство могли быть только в тех людях, у которых имелся свободный запас тела и теплота покоя над головой, но у родителей прочих были лишь остатки тела, истёртого трудом и протравленного едким горем, а ум и сердечно-чувствительная заунывность исчезли как высшие признаки за недостатком отдыха и нежно-питательных веществ. И прочие появились из глубины своих матерей среди круглой беды, потому что матери их ушли от них так скоро, как только смогли их поднять ноги после слабости родов, чтобы не успеть увидеть своего ребёнка и нечаянно не полюбить его навсегда. Оставшийся маленький прочий должен был самостоятельно делать из себя будущего человека, не надеясь ни на кого, не ощущая ничего, кроме своих теплющихся внутренностей; кругом был внешний мир, а прочий ребёнок лежал посреди него и плакал, сопротивляясь этим первому горю, которое останется незабвенным на всю жизнь – навеки утраченной теплоте матери.
Оседлые, надёжно-государственные люди, проживающие в уюте классовой солидарности, телесных привычек и в накоплении спокойствия, – те создали вокруг себя подобие материнской утробы и посредством этого росли и улучшались, словно в покинутом детстве; прочие же сразу ощущали мир в холоде, в траве, смоченной следами матери, и в одиночестве, за отсутствием охраняющих продолжающихся материнских сил.
Никто из прочих не видел отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по утраченному покою – тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в опустошающую грусть. С матери после своего рождения ребёнок ничего не требует – он её любит, и даже сироты-прочие никогда не обижались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, подрастая, ребёнок ожидает отца, он уже до конца насыщается природными силами и чувствами матери – всё равно, будь он покинут сразу после выхода из её утробы, – ребёнок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и его первым другом-товарищем, после неотвязной теплоты матери, после стеснения жизни её ласковыми руками, – является отец.
Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашёл своего отца и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рождённого и живущего; поэтому отец превращался во врага и ненавистника матери – всюду отсутствующего, всегда обрекающего бессильного сына на риск жизни без помощи – и оттого без удачи.
И жизнь прочих была безотцовщиной – она продолжалась на пустой земле без того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей детям в наследство – для замены себя.
308, 309
Кажущаяся немощь прочих была равнодушием их силы, а слишком большой труд и мучение жизни сделало их лица нерусскими.
311
– Это же интернациональные пролетарии: видишь, они не русские, не армяне, не татары, а – никто!
Прокофий о том, кого привел в Чевенгур, когда Чепурный упрекнул, что это не пролетариат и вообще нерусские, 311
– …«Для сего организовать план, в коем сосредоточить всю предпосылочную, согласовательную работу, дабы из стихии какофонии капиталистического хозяйства получить гармонию симфонии объединённого высшего начала и рационального признака». Написано всё чётко, потому что это задание…
Из директивы, 315
– …Власть дело неумелое, в неё надо самых ненужных людей сажать, а вы же все годные.
Старик-прочий, 318
…Звёзды двигались как товарищи – не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения.
323
Пока Чепурный помогал мальчику пожить ещё одну минуту, Копенкин догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма – женщина только что принесла ребёнка, а он умер.
330
– Это он лишние сутки от Чевенгура прожил – тебе говорю!
Чепурный защищает чевенгурский коммунизм после смерти младенца, 331
«Какой же это коммунизм? – окончательно усомнился Копенкин… – От него ребёнок ни разу не мог вздохнуть, при нём человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда – вдаль».
332
– Все люди, товарищи, рождаются, проживают и кончаются от социальных условий, не иначе.
Прокофий, 334
Прокофий однажды говорил Чепурному, что при наличии горя в груди надо либо спать, либо есть что-либо вкусное. И в Чевенгуре ничего не было вкусного, и женщина выбрала себе в утешение сон.
335
Яков Титыч отказывался от своей старости – он считал, что ему не пятьдесят лет, а двадцать пять, так как половину жизни он проспал и проболел – она не в счет, а в ущерб.
340
Другой прочий приходил интересоваться советской звездой: почему она теперь главный знак на человеке, а не крест и не кружок? Такого Чепурный отсылал за справкой к Прокофию, а тот объяснял, что красная звезда обозначает пять материков земли, соединённых в одно руководство и окрашенных кровью жизни. Прочий слушал, а потом опять шёл к Чепурному – за проверкой справки. Чепурный брал в руки звезду и сразу видел, что она – это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки. Прочий не знал, зачем человеку обниматься. И тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват, просто у него тело устроено для объятий, иначе руки и ноги некуда деть. «Крест – тоже человек, – вспоминал прочий, – но отчего он на одной ноге, у человека же две?» Чепурный и про это догадывался: «Раньше люди одними руками хотели друг друга держать, а потом не удержали – и ноги расцепили и приготовили». Прочий этим довольствовался: «Так похоже», – говорил он и уходил жить.
341
Но когда они начали искать харчей и ночлега, то ничего не нашли: их, оказывается, искать было не нужно. Александр Дванов и Гопнер находились в коммунизме и Чевенгуре, где все двери открыты, и все люди были рады новым людям, потому что чевенгурцы вместо имущества, могли приобретать лишь одних друзей.
342
Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шёл вперёд со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства, Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, – так же, как рыбак Дванов не вытерпел соей жизни и превратил её в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света.
346
Дванов вспомнил старого, еле живущего Захара Павловича. «Саша, – говорил, бывало он, – сделай что-нибудь на свете, видишь – люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть».
346
– Тут, товарищ Гопнер, у всех одна профессия – душа, а вместо ремесла мы назначили жизнь.
Чепурный, 348
В Чевенгуре они почувствовали покой, достаток пищи, а от товарищей вместо довольства – тоску. Раньше товарищи были нужны для тепла во время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи – один не достаёт, другой принесёт, – товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества и не с кем удовлетворять и расходовать постоянно скапливающуюся душу. В Чевенгуре имущество было, был дикий хлеб в степях, и рос овощ в огородах посредством зарождения от прошлогодних остатков плодов в почве, – горя пищи, мучений ночлега на пустой земле в чевенгуре не было, и прочие заскучали: они оскуднели друг для друга и смотрели один на одного без интереса – они стали бесполезны самим себе, между ними не было теперь никакого вещества пользы. Прочий, по прозванью Карпий, сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейства: любая гадина на своём семени держится и живёт покойно, а я живу ни на чём – нечаянно. Что за пропасть такая подо мной!»
Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась.
– Возьми меня, Карпий, – сказала она, – я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой – жить себе в заботах, как в орепьях, и горюшка будет мало, сама себе станешь незаметной! А то живёшь тут, и всё как сама перед собой торчишь!
– Ты хамка, – отказал Карпий Агапке. – Я люблю женщин дальних.
350, 351
…Семейство – это милое дело, потому что при семье уже ничего не хочется и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в будущем – для детей; кроме того, детей бывает жалко и от них становишься добрей, терпеливей и равнодушней ко всей происходящей жизни.
352
Единственный труженик в Чевенгуре успокоился на всю ночь: вместо солнца – светила коммунизма, тепла и товарищества – не небе постепенно засияла луна – светило одиноких, светило бродяг, бредущих зря.
352
Коммунизм же произойдёт сам, если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, – больше нечему быть.
Собственно, это и есть наивная чевенгурская концепция естественного формирования нового общества, 355
«Вот видишь, – сообразил Гопнер, – когда люди не действуют – у них является лишний ум, и он хуже дурости».
356
…Что горе в русских деревнях – это есть не мука, а обычай, что выделенный сын из отцовского двора больше уж никогда не является отцу и не тоскует по нём, сын и отец связаны нисколько не чувством, а имуществом; лишь редкая странная женщина не задушила нарочно хотя бы одного ребёнка на своём веку, – и не совсем от бедности, а для того, чтобы ещё можно свободно жить и любиться со своим мужиком.
…
Каждый гражданин поскорее хочет исполнить свои чувства, чтобы меньше чувствовать себя от мученья. Но так на них не наготовишься – сегодня ему имущество давай, завтра жену, потом счастья круглые сутки, – это и история не управится. Лучше будет уменьшать постепенно человека, а он притерпится: ему так и так всё равно страдать.
…
Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация – умнейшее дело: все тебя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо – он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять.
Воззрения Прокофия, 358, 359
…Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идёт только в природе, а в человеке стоит тоска.
364
– В Чевенгуре коммунизму ничто не мешает, поэтому он сам рожается.
Дванов, 369
Сербинов отказывал любви не только в идее, но даже в чувстве, он считал любовь одним округлённым телом, об ней даже думать нельзя, потому что тело любимого человека создано для забвения дум и чувств, для безмолвного труда любви и смертельного утомления; утомление и есть единственное утешение в любви.
389
– Женщина без революции – одна полубаба, по таким я не тоскую… Уснуть от неё ещё сумеешь, а далее-более – она уже не боевая вещь, она легче моего сердца.
Копенкин, влюблённый в образ Розы Люксембург, 405
Дванов всегда в начале боялся человека, потому чтоон не имел таких истинных убеждений, от которых сознавал бы себя в превосходстве; наоборот, вид человека возбуждал в Дванове вместо убеждений чувства, и он начинал излишне уважать.
409
Своим выводом Сербинов поместил соображение, что Чевенгур, вероятно, захвачен неизвестной малой народностью или прохожими бродягами, которым незнакомо искусство информации, и единственным их сигналом в мир служит глиняный маяк, где по ночам горит солома наверху либо другое сухое вещество; среди бродяг есть один интеллигент и один квалифицированный мастеровой, но оба совершенно позабывшиеся.
Пишет насмешливый отчёт в губернию, 413
Они боялись не любви, они не любили, они не любили, а истязания, почти истребления своего тела этими сухими, терпеливыми мужчинами в солдатских шинелях, с испещрёнными трудной жизнью лицами. Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста, они меняли своё тело, своё место возраста и расцвета на пищу, и так как добыча пищи для них была всегда убыточной, то тело истратилось прежде смерти и задолго до неё; поэтому они были похожи на девочек и на старушек – на матерей и на младших, невыкормленных сестёр; от ласк мужей им стало бы больно и страшно. Прокофий их пробовал во время путешествия сжимать, забирая в фаэтон для испытания, но они кричали от его любви, как от своей болезни.
418
…Поверх кожи для женщин начинался чужой мир, и ничто из него не удавалось приобрести, даже одежды для теплоты и сбережения тела как источника своей пищи и счастья других.
420
– Товарищ Копенкин, – спросил Дванов, – кто тебе дороже – Чевенгур или Роза Люксембург?
– Роза, товарищ Дванов, – с испугом ответил Копенкин. – В ней коммунизма было побольше, чем в Чевенгуре, оттого её и убила буржуазия, а город цел, хотя кругом его стихия…
434