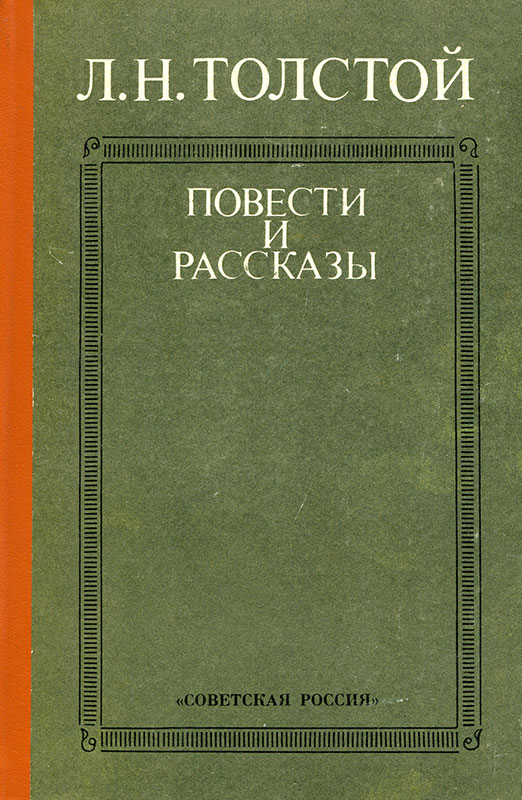 Толстой писал «Крейцерову сонату» в течении двух лет будучи уже зрелым человеком и состоявшимся писателем. Произведение получилось противоречивым и сложным, мало того, что писалось в течение двух лет, получилось несколько авторских редакций. Лев Николаевич в этой повести завёл себя достаточно далеко для своего времени и даже для себя в вопросы интимной жизни, в результате чего публиковать её не хотели из цензурных соображений, даже арестовывали набор готовой книги. Но в конце концов публикация состоялась в 1890 году – повесть вошла в многотомное собрание сочинений писателя.
Толстой писал «Крейцерову сонату» в течении двух лет будучи уже зрелым человеком и состоявшимся писателем. Произведение получилось противоречивым и сложным, мало того, что писалось в течение двух лет, получилось несколько авторских редакций. Лев Николаевич в этой повести завёл себя достаточно далеко для своего времени и даже для себя в вопросы интимной жизни, в результате чего публиковать её не хотели из цензурных соображений, даже арестовывали набор готовой книги. Но в конце концов публикация состоялась в 1890 году – повесть вошла в многотомное собрание сочинений писателя.
В основе повествования лежит реальная история убийства жены-изменщицы ревнивым мужем. По книге главный герой – Василий Позднышев – возвращается на поезде из мест заключения и рассказывает попутчику (автору) историю своей жизни: от развратной молодости через противоречивую семейную жизнь до убийства жены.
Лев Николаевич – известный моралист и эксперт по семейным и межполовым отношениям не осмелился выдать свои мысли от себя лично и сделал это через главного героя повествования, хотя книга, по сути, почти полностью представляет монолог Позднышева от первого лица.
Те мысли и высказывания, которые мы здесь встретим, тогда выглядели достаточно дерзкими. На серьёзном уровне подобное уже можно встретить у немецкого философа Артура Шопенгауэра, который отобразил в своих работах разрушение воззрений былых времен практикой жизни XIX века. В России это сделал Лев Толстой в свободной литературной форме художественного произведения.
–…Не верь лошади в поле, а жене в доме.
Старик в поезде.
–… Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек – блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приёмам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.
Позднышев. Здесь и далее
Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.
Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, интересным героем прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих жёнах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего знать, – девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов т деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом приучаются к этому притворству, что, наконец, как англичане, сами начинают искренне верить, что мы все нравственные люди и живём в нравственном мире.
Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличённой во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нём в дурно сшитом и некрасивом платье, – всякая всегда предпочтёт первое. Она знает, что наш брат всё врёт о высоких о высоких чувствах – ему нужно только тело, и тому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.
– Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пение. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки – обыкновенно презираемые, проститутки на долгие – уважаемы.
– Как властвование женщин? – сказал я. – Правда, преимущества прав на стороне мужчин.
– Да, да, это, это самое, – перебил он меня. – Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны – что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью оплачивают за своё угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», – говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», – говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьёй – заниматься этими делами не составляет никаких прав, – а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена этого права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.
– Да где же эта особенная власть? – спросил я.
– Где власть? Да везде, во всём. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжёлого труда держат 0,9 рода человеческого. А всё оттого, что их унизили, лишили равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, всё от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно общаться с женщиной. Как только мужчина подошёл к женщине, так и подпал под её дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противузаконное, и хочется крикнуть подицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.
…
Отчего азартная игра запрещена, а женщины в протитуточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!
– А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, – говорил он с видимым волнением, очевидно, очень дорожа своей мыслью. – Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живёт, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утончённее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.
Выходит, что плотская любовь – это спасительный клапан.
Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «Wein, Weiber und Gesang [Вино, женщина и песня (нем.)]», и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачёвке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок (боготворят, а всё-таки смотрят на неё как на орудие наслаждения).
Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его.
– Однако вы не любите докторов, – сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.
– Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал бы им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев – их пропасть, – в которых они убили то ребёнка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всём, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный – в развращении людей, женщин в особенности.
Позднышев про врачей
– Вот вы напомнили про людей. Опять какое страшное лганье идёт про детей. Дети – благословенье божие, дети – радость. Ведь всё это ложь. Всё это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети – мученье и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. … Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм.
…У каждого из нас был свой любимый ребёнок – орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а они Лизой.
Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, – думал я на неё, – а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». «Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребёнком».
…В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, всё занято.
Мужику, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, ещё дети не нужны, они – лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдание свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляется от детей. Или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что ещё гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство образованного мира предаётся этому разврату без малейшего угрызения совести.
…
Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные дески и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас всё делается своевременно и чисто.
Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жён, как я сделал. Если с кем это не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже травилась.
Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) – это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоём самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное.
Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над её телом, как будто это было моё тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не моё и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу.
